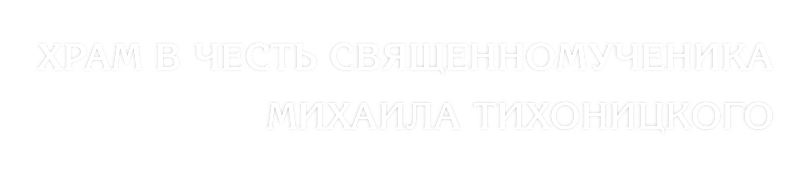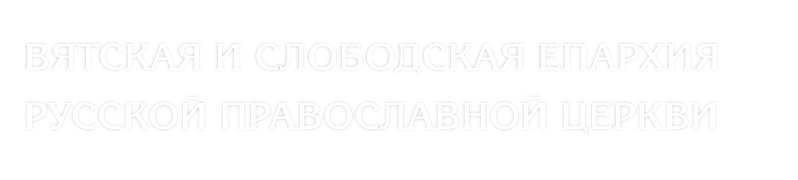«Прощеный день. Из воспоминаний детства» (В.Крупин)
Раннее утро. Я просыпаюсь от света, который бьет мне в глаза, от какого-то шороха и старческого кашля. Мне хочется открыть глаза, но в них стоят яркие радужные круги, которые дрожат, сталкиваются друг с другом, расплываются, потухают, опять загораются, опять дрожат и прыгают. Наконец от напора яркого света веки сами собой открываются. Свет исходит от лампы на чем-то высоком, а это высокое поставлено на лежанку, около небольшой квашни, в которой у нас «ставили» блины. Бабушка, снявши с квашни то, чем она обвязана, смотрит внутрь квашни, потом сосредоточенно качает головой. Лампа ярко освещает всю комнату, особенно генерала Бебутова на картине как раз против самой лежанки. Генерал Бебутов молодцевато сидит на коне, откинувшись назад и запрокинув голову, широко размахнув правой рукой, в которой обнаженная шашка, а левой туго натянув поводья; серый конь взвился на дыбы, огромные копыта его передних ног высоко поднялись над длинным рядом синих солдатиков. В окне спальни никаких признаков рассвета; темная ночь глядит оттуда, и на свету лампы ярко белеют снежные пятна, которыми усеяно окно снаружи, — так бывает после метели. За стеной еще гудит ветер, похлопывает где-то ставня, уныло скрипя на заржавленных петлях. От всего этого еще больше хочется закутаться одеялом и заснуть. Дедушка, с которым я сплю рядом, проснулся, громко и с оттяжкой зевает, приговаривая: «О-о-х, Господи, помилуй!» Бабушка стучит суставами пальцев в стену, за которой находится кухня.
— Нешто скоро теперь ее раскачаешь! — ворчит она.
— А-а-а-а-а, Господи, помилуй! Господи, помилуй! — зевает дедушка. — А ты, мать постучи посильней. Она теперь пригрелась на печке. Поди-ка встань теперь на холод…
Бабушка стучит еще, и как будто с сердцем. За стеной послышалась возня. Кто-то как будто спрыгнул сверху. Жалобно запищала кухонная дверь, с силой отдернули дверь к нам, в «горницу», и в прихожей что-то зашуршало, загремело: кухаркина шуба, мокнувшая под дождем и снегом и высыхавшая на печке, всегда шуршала и гремела. На свет вышла Марья (у нас все кухарки были Марьи) в шубе, надетой в один левый рукав, с заспанным лицом, на которое съехал красный платок, кое-как затянутый в один узел. Марья остановилась в проходе двери в спальню, почти не раскрывая глаз. Лицо ее как будто навсегда напиталось сажей, которую, кажется, невозможно отмыть.
— Ну что ж ты стоишь? — обращается к ней бабушка. — Давай муку! Скоро к заутрене, а мы еще блины не потворяли.
Марья сладко зевает, закрывая рот углом шубы, под которым спрятана правая рука, движением плеч чешет спину и молча направляется к двери. В сенях слышно хлопанье дверями, отпиранье и запиранье замков. Бабушка села на сундук, опершись на него руками и углубившись в какие-то соображения: потом она зевнула и, крестя рот и еще не кончив зевоты, прерывающимся голосом обратилась к дедушке:
— Ты, отец, с обедней не спеши, дай нам блины наладить к обедне; да теперь и по селу бабы не управились…
— Что с вами поделаешь! Все от баб зависит: наше дело подначальное, — шутит дедушка. — Теперь того и гляди Петрович придет за ключами. Вели ты там калитку отпереть, а то у вас замерзнешь — не достучишься…
Молчание. За окном шумит ветер. В соседней комнате стучат часы. От шороха и движения проснулась кошка на лежанке. Она всегда там спит, забравшись туда еще в сумерки. На лежанку всегда кладутся на ночь валяные сапоги, чулки, различные фуфайки. Иногда, в сильные морозы, бабушка, чтобы сберечь тепло, укрывает на ночь лежанку одеялом. Забравшись во всю эту теплую мякоть, свернувшись кольцом и спрятавши голову, кошка спит очень сладко. Теперь она подняла голову и, щурясь на огонь, стала мурлыкать, потом стала лизать лапку и умываться.
— Что-то кошка умывается, — тихо говорит бабушка.
— Чего? — отзывается с кровати дедушка.
— Какой ты, отец, стал глухой! Кошка, мол, умывается. Должно быть, гостей чует: придут вечером прощаться.
— И охота тебе, мать, всякие пустяки примечать. Займись лучше блинами.
— Займись, займись… — ворчит вполголоса бабушка. — Вот она пошла и пропала, теперь жди ее, провалилась, совсем провалилась…
— Кто провалился? — спрашивает дедушка.
— Марья, говорю.
— Куда провалилась? неужто в подвал? ай-ай-ай!
— Эхма, — совсем сердится бабушка. — Марья пропала, а он — в подвал!
— Да она, видно, опять забралась на печь и спит себе. Ха-ха-ха, — благодушно хохочет дедушка, — молодец баба! Чем бы муку нести, а она на печь завалилась…
— Тебе смех, — обидчиво говорит бабушка, — а как блины будут плохи, небось брови надвинешь.
— Это чтобы ты не зазнавалась. Вашей сестре только дай поблажку! У нас в семинарии ректор Арсений говаривал: «Жену люби, а все-таки давай ей знать, что ты больше ея». Вот как!
— «Больше ея», — передразнивает бабушка, скрививши рот. — Ты, видно, только это и упомнил из семинарии, — начинает она сама подзадоривать.
— «Не создан бысть муж жены ради, но жена мужа ради», — наставительным тоном говорит дедушка.
— Эх, только бы нынче не Прощеный день, а то проучила бы я тебя с твоим Арсением, оставила бы я тебя без блинов… Вот тогда и разбирай, кто больше, кто меньше. — Бабушке самой становится смешно, и она заливается беззвучным хохотом, трясясь всем телом, кашляя и утирая выступившие от смеха слезы.
— Ох, Господи, согрешишь с этими бабами, — говорит дедушка и с кряхтеньем начинает вставать с постели. Бабушка опять стучит в стену, за стеной опять кто-то прыгает сверху, опять в сенях пищат и стонут двери. В горнице появляется Марья.
— Где же мука?— спрашивает бабушка.
— Какая мука? — с недоумением спрашивает Марья.
Бабушка, не произнося ни слова, укоризненно качает головой. Марья отчаянно зевает и, точно встряхнувшись, припоминает.
— О, мука-то?.. мука в кухне. Как вы давеча сказали, так я и принесла ее из чулана.
— Да ведь я тебе сюда велела принести, а ты взяла да завалилась опять спать!
— Спать? Что вы, матушка! Я, почитай, всю ночь-то ноченскую не спала, а вы — спать! Задремлю-задремлю, опять проснусь, опять проснусь… Душит меня, душит, подкатывает под сердце; страх меня одолевает. Вот, слышу-слышу: кто-то по сеням ходит — сам кашляет: кха! кха! А то будто к воротам на тройках подъехали, с колокольцами, с бубенцами, тпру!.. Всю я ноченьку, милые мои, так промаялась.
— Это у тебя от блинов, — замечает дедушка.
— Ох, баба, что мне с тобой делать! — глубоко вздыхает бабушка. — Ну, давай муку!
Кухарка, совсем уже вышедшая из сонного состояния, бросается в кухню и сейчас же возвращается, держа в руках совок с мукой.
— Ну-ка, свети сюда, — говорит бабушка, наклоняясь к блинам. Марья правой рукой подняла лампу над квашней, а в левую взяла совок. Бабушка захватила с совка полные пригоршни муки. — Господи Иисусе Христе, — шепчет бабушка и осторожно опускает пригоршни в квашню; оттуда поднимается мучная пыль. — Господи Иисусе Христе, — снова шепчет бабушка и, вооружившись маленькой лопаткой, умелой рукой начинает мешать тесто. Левой рукой она придерживает верх лопатки, а правой кружит лопаткой в квашне; потом переменяет руки и начинает взбалтывать тесто, звучно шлепая по нем лопаткой. Даже кошка перестала умываться и, принявши покойную позу, стала наблюдать за действиями бабушки. Бабушка почему-то обращает внимание на кошку: — Ты чего глядишь? брысь!
Кошка тихо поднялась на ноги, выгнула спину, лениво потянулась и, мягко спрыгнувши на пол, беззвучно пошла в прихожую. Но вскоре она опять пришла, вспрыгнула на лежанку и уселась на прежнем месте. У Марьи опять начинают слипаться глаза, рука с лампой опускается, лампа наклонилась набок, из совка посыпалась мука.
— Марья, ты опять спишь? — строго окликает ее бабушка. — Ты мне керосину нальешь в блины.
Марья вздрагивает всем телом, откашливается, отвернувшись в сторону, чтобы показать, что она вовсе не дремала, и, нахмуривши брови, сосредоточенно глядит в кадку с тестом.
Блины наконец приведены в надлежащий порядок. Бабушка пальцем очистила тесто с конца лопатки, передала ее Марье, перекрестила кадку, обвязала, укрыла ее и подвинула на теплое место лежанки. Марья ушла в кухню. Бабушка села на сундук и опять погрузилась в какие-то размышления. Потом она зевнула, оправила под платком волосы и тихо заговорила, как будто сама с собой:
— Мне тоже всю ночь сны снились. Вот будто куда-то все еду, еду… то на лошадях, то на пароме через реку… Вот тянем — а народу много, — тянем канат, все измучились, а паром ни с места… Потом… потом… что бишь потом? а-а-а, — бабушка зевает, — потом все спуталось. И уж будто принесла я с речки холсты и хочу их расстелить в саду, на траве. Стелю я, а откуда ни возьмись дьячиха Мартыновна, и давай у меня их вырывать. Я стелю, а она вырывает, я стелю, а она вырывает… Ох, Господи, грехи наши тяжкие! — вздыхает бабушка. — зимняя ночь-то тянется точно год, сколько разных снов перевидаешь… И к чему все это?
— Холсты видеть, маменька, это к дороге, дорога предстоит, — говорит из соседней комнаты за перегородкой моя мать.
— Вот придет пост — и сны перестанешь видеть, — говорит дедушка, сидя на постели. Молчание. — А я, — продолжает дедушка, — видел во сне преосвященного Гавриила… Приехал он на Выселки, а я — благочинный, и будто опоздал… И никак я не могу надеть камилавку: хочу-хочу надеть, а она не лезет… А владыка и говорит мне — таково серьезно говорит: «Что же ты, отец благочинный, опоздал?» — Дедушка, когда передает слова архиереев, то говорит величественно, с важностью и на «о». — Так у меня мороз по коже и пошел.
— Ну, отец, ты только и видишь во сне, что архиереев, — говорит бабушка.
— А ты все дьячиху да холсты, — смеется дедушка.
Кряхтя и шепча молитву, дедушка топчется по комнате, тяжело передвигая ноги в валяных сапогах, роется в углу, где навешано платье, лазит в карманы, говоря иногда вслух: «Нет, не то, не то», — потом идет умываться: он громко отфыркивается, плещет водой, шлепая по лицу, кашляет.
— Ну, ты, мать, прости меня… Мы с тобой много лишнего наболтали и нагрешили, а мне служить… — говорит он, утираясь полотенцем и тщательно протирая между пальцами.
— Бог тебя простит, — кротко говорит бабушка, — ты меня прости.
Дедушка зажигает свечу. Свеча плохо разгорается, и дедушка тихо поднимает ее и опускает, потом, защитивши огонь левой рукой, направляется в зал. Половицы скрипят под ним.
— Э-ге-ге, — слышно оттуда, — три… четыре… половина пятого! А вот Ивана-то все и нет… все и нет… Господи, прости и помилуй меня грешного!..
Дедушка зажигает лампадку и приготовляется читать правило. В зале в переднем углу у нас — большая икона Спасителя на полотне. Пред Спасителем стоит на столе чаша с вином, в левой руке Он держит хлеб, а правую поднял для благословения. Глаза Спасителя устремлены к небу. Я люблю глядеть на эту икону, когда по вечерам, под праздники, она освещена лампадой. Сидишь себе на диване в темном углу, и никто тебя не видит и не слышит. Один Спаситель все видит и все слышит, и приятно это, что Он все видит и все слышит. Вот на колокольне сторож редко и протяжно прозвонил часы. Мирно и тихо в комнате, при мерцании лампады пред Спасителем; мирно и тихо там, откуда донеслись звуки колокола, — на колокольне: мирно и тихо теперь и в самой церкви, наполненной темнотой и священной тишиной.
Дедушка надел очки и взял канонник. Канонник — маленькая и очень толстая книжка в кожаном черном переплете; она кажется в толщину больше, чем в длину и ширину. Листы в ней так захватаны, что внизу, в углах, стали черные, совсем не шелестят, — стали мягкие, как тряпка; они все испещрены кружками воска и так слиплись между собою, что дедушка долго слюнит пальцы перед тем, как перевернуть страницу. Когда я еще только учился читать, то очень часто, открывши этот канонник, читал первую страницу: «Во славу Святыя, Единосущныя…» С великим напряжением я разбирал: «При Королеве Виртембергской», «при Королеве Нидерландской» и уж совсем ничего не понимал, когда добирался до конца: «в лето от сотворения мира… Индикта…» У дедушки лицо ласковое и кроткое, но когда он берет этот канонник, надевает очки и читает правило, то оно делается серьезное и строгое, глаза делаются какие-то белые и расширяются. В доме тогда ходят на цыпочках, разговаривают шепотом, отворяют и затворяют двери тихо и осторожно. «Дедушка правило читает!» — разносится тогда по всему дому. И когда дедушка, кончивши правило, завернет канонник в старенькую епитрахиль и положит на стол, под иконы, я боюсь брать в руки этот сверток, от которого, мне кажется, и пахнет по-церковному.
Сначала дедушка читает шепотом, потом — громче и громче. «Внезапно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи…» «В полунощи» — это, мне кажется, там, за окнами, откуда в комнату глядят мороз, снег, ночь… Когда нужно повторять «Господи, помилуй» много раз, дедушка иногда сходит со своего места, смотрит чрез окно в темноту, тут же замечая: «Еще не рассветает», а то подходит к часам и смотрит на них, а сам повторяет: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй» — и даже уходит за чем-нибудь в другую комнату, на ходу все повторяя: «Господи, помилуй».
В соседней комнате, за перегородкой, совсем проснулась моя мать и громко спрашивает:
— Не ударяли еще к заутрене?
Но, заслышавши монотонное дедушкино чтение, она замолкает и начинает вставать с постели. Мне не хочется расставаться с теплой постелью, но я боюсь опоздать: как ударят в колокол, дедушка не будет ждать ни одной минуты, а один идти я боюсь. Ловким движением я прыгаю с кровати прямо на лежанку, чтобы там было не так холодно обуваться и одеваться. Кошка, испугавшись меня, прыгает с лежанки через голову бабушки.
— Ох, малый, — укоризненно-сердито шепчет бабушка, качая головой, — изувечишься ты когда-нибудь насмерть, расшибешь свою головушку… вот и меня насмерть кошкой испугал.
Стучат у ворот. Бабушка прислушивается, вытянувши испуганное лицо и открывши рот. Марья, которая оказалась в темноте прихожей и про которую как будто все забыли, быстро спохватывается и опрометью бежит в сени. Слышно, как она отпирает двери и с кем-то разговаривает. За дверью кто-то возится и царапает, ища ручку. Входит наш псаломщик Иван Петрович, внося с собой много свежего воздуха. Он обивает снег с валенок, ударяя одним о другой, утирает усы и бороду, молится на иконы и тихим кашлем дает знать о своем присутствии.
— Доброе утро! С Прощеным днем вас! — робко басит он из прихожей.
— Это ты, Петрович? — говорит дедушка из зала. — Много ли снегу намело?
— Хоть с лопатой иди да отгребай. Это уж такой февраль-месяц, и прозванье ему — кривые дороги.
— Что, Иван Петрович, хороши ли блины у вас? — спрашивает бабушка из спальни. Бабушка всегда любит разговаривать с псаломщиком, когда он приходит за ключами к заутрене.
— А кто ж и знает! Едим вот уж целую неделю. Поскорее бы пост… А то изжога замучила: после отдыха встанешь — во рту пересохло, скорей квас пить… голова дурная, в животе тягость — места не найдешь.
— И кто это масленицу выдумал! — говорит бабушка в тон Петровичу.
— Так уж испокон веков положено! Не мы первые — не мы последние, — тихо говорит Петрович, вздыхая и глядя на свои ноги.
Дедушка кончил правило и идет в прихожую, забывши снять епитрахиль. Петрович подходит к дедушке под благословение и целует руку, низко наклонив голову, на которую наваливается приподнятый воротник тулупа. Петрович откидывает его назад и стоит в выжидательной позе, перебирая одной рукой шапку, а другой приглаживая ее мокрую от растаявшего снега опушку.
— Ударять, что ли? — почтительно спрашивает Петрович и, получивши утвердительный ответ от дедушки, направляется к двери.
— Что, есть еще корм-то? — спрашивает дедушка, отыскивая рясу и не замечая, что он в епитрахили. Петрович, отворивший было дверь, тянет опять ее к себе и, не снимая шапки, останавливается на пороге.
— Перебиваемся кое-как, — уныло отвечает он. — Где струшонку[1] даешь, где колос, где овсяной соломки… До средокрестной кое-как дотянем, а там — что Бог даст… Вот за эти холода-то много корму вышло: ведь она, скотинка-то, в холод больше корму ест. — Последние слова Петрович проговорил уже в сенях, потом затворил крепко дверь, и слышно стало, как он закашлял в сенях и загремел дверью.
— Что же ты, отец, епитрахиль-то не снимешь? — говорит бабушка.
— Э-э, и в самом деле, — спохватывается дедушка, оглядывая себя и снимая епитрахиль. — Вот что значит старость-то! Скоро домой в облачении станешь приходить… Слыхал я: в городе у Бориса и Глеба дьякон так в стихаре домой и пришел…
Вот загудел и колокол. Глухо проникающий через занесенные снегом окна благовест сразу точно все преображает в комнате. Иконы, стены, окна, люди становятся как будто другие. Низкие потолки будто поднимаются, стены раздвигаются, все точно прислушивается… Все стало величественное и торжественное; лампадка как будто ярче вспыхнула, икона стала радостной и сияющей. И уж, кажется, нельзя оставаться в этих стенах, а нужно — туда, откуда плывут эти торжественные звуки.
Кряхтя, откашливаясь и шепча молитву, дедушка идет в дверь, я — за ним. В сенях колокол звучнее, а за воротами благовест точно ударил нам в лицо вместе с морозным утренним воздухом. Ветер утих, метель унялась, на небе расчистило. Еще темно, но слабый предутренний свет уже везде проник и все собою наполнил. Небо посветлело, и на нем ясно обрисовываются и высокая, гордая колокольня, и молчаливые деревья, и остроконечные белые крыши крестьянских изб. И на улице от благовеста все торжественное и величественное. Все прислушивается: слушает опрокинувшееся над белой землей огромное небо, слушает сама себя радостная и торжественная колокольня, слушает морозная, еще невидимая снежная даль… Дедушка, идущий впереди меня, в предутреннем свете кажется огромным. Он старается держаться на узкой дорожке, на которой снег не так глубок и на которой Петрович оставил круглые и глубокие следы. Но дедушка то и дело сбивается в стороны, утопая в снегу то правой, то левой ногой и подавая мне из воротника рясы глухие, отрывочные слова: «Держись правее!.. лево!..» В окнах крестьянских изб ярко пылает пламя от затопленных печей; пламя дрожит и колеблется на разрисованных морозом и до половины занесенных снегом окнах. Пахнет блинами. У церковной ограды смутно чернеют лошади и сани. Слышно, как лошади жуют корм, фыркают и позванивают маленькими колокольчиками. Это из деревень приехали к заутрене.
У боковой калитки в ограде всегда наметает высокий сугроб, иногда выше самой ограды. Но около самой калитки снег ложится правильной полукруглой стеной, образуя котловину и оставляя самый проход свободным. Нужно спускаться в эту полукруглую яму и, рискуя стукнуться лбом о верхнюю перекладину калитки, пройти ограду. Я всегда боюсь этого места и прохожу его вечером или ночью с замиранием сердца, а если один, то обхожу ограду вокруг. Дочь Петровича рассказывала: «Выхожу это я из ограды, а уж вечером, и хочу подняться на бугор… и что же, милые вы мои? Слева от меня… на сугробе… какой-то высокий… белый… да как гаркнет на меня: г-га!.. да как звякнет страшными зубищами!.. Родимые мои! Чуть не умерла я тут… домой пришла — вся трясусь: з-з-з-з».
В ограде пустынно и жутко. Намогильные кресты и памятники уныло и молчаливо торчат из сугробов. Мне все кажется, что кто-то хватает меня сзади. Если ветер, то ангел с трубой на угловой башенке ограды повертывается туда и сюда и ржавое железо издает тоскливые и унылые звуки. Уж поскорее бы пройти оградой! А дедушка останавливается, молится на церковь и, стоя без шапки, кланяется могилам и что-то шепчет…
Но вот и паперть. Тут весело и не страшно: входят люди и светло, так что отчетливо видно двух больших ангелов, которые сидят по сторонам входных дверей и в длинные и узкие рукописания записывают, кто и с какими мыслями входит в церковь. На паперти все охорашиваются, очень громко сморкаются, кашляют, очищают от снега ноги, молятся, хлопают дверями.